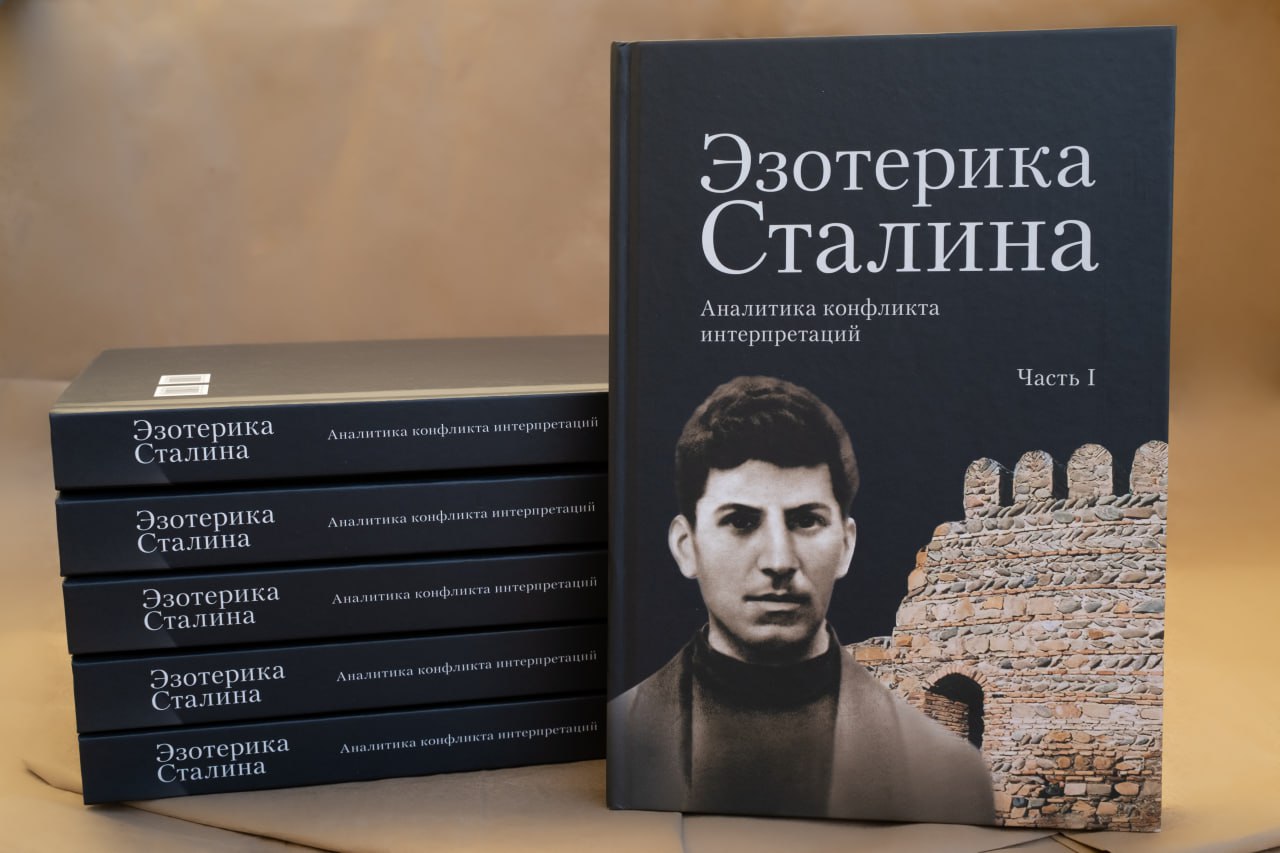виртуальный клуб Суть времени
Постмодерн и культура: наш ракурс.

Рассказ о сущности постмодернизма необходимо предварить пояснением о природе культурных эпох. История цивилизационного подхода к исследованию культуры началась с трудов выдающегося русского ученого XIX века Н.И. Данилевского, опередившего свое время и еще в 1869 году издавшего свой знаменитый труд «Россия и Европа». Попутно заметим, что в европейской науке цивилизационный подход появился лишь на рубеже XIX-ХХ веков. И уже в 30-х гг. прошлого века этот подход был перенесен на исследование социально-культурных процессов – и сделано это было опять же выдающимся русским социологом, работавшим за рубежом П.А. Сорокиным (был в числе высланных на философском пароходе) в работе «Социальная и культурная динамика», грандиозном труде на материале мировой культуры объемом в 3 тысячи страниц (полная версия). В этой работе наряду со многими другими открытиями были классифицированы системы истины, когда-либо имевшие место во всей обозримой истории цивилизации. П.А. Сорокин предлагал классифицировать системы истины следующим образом: 1. Истина веры, соответствующая идеациональной (религиозной) стадии развития культуры. 2.. Истина разума, соответствующая научно-технической стадии. 3. Истина чувств, соответствующая гедонистическо-потребительской стадии. 4. Их идеалистический синтез, имеющий место на стыке эпох. 5. Интегрированная скептическая, агностическая или критическая система, соответствующая завершению всего цикла и предваряющая новый цикл. Все остальное, по мнению П. А. Сорокина, есть лишь «эклектическая смесь этих систем. Поскольку нет никакой другой логической возможности для установления принципиально иных интегрированных систем истины, эти истины неизбежно – и логически и фактически - должны повторяться в любой многовековой культуре (во времени) или в различных культурах (в пространстве). И мы видели, что периоды их господства действительно повторялись. То же самое можно сказать и о главных стилях искусства». Итак, систем истины всего пять. При этом если путь от истины веры к истине разума, а затем чувства, энтропичен и естественен, то есть происходит самостоятельно с течением времени, то путь от пост-чувственного эклектического синтеза, с каковым мы имеем дело в искусстве в наше время (начало XXI века), напротив, антиэнтропичен, и требует огромного расхода духовной энергии . Отсюда понятно, почему стадиальное чередование культурных эпох происходит именно в порядке возрастания чувственности и убывания символичности/идеальности.
История надлома европейской культуры (романтизм, XIX век) «В возражениях, выдвинутых в начале XIX столетия против рационализма романтизмом было немало обоснованного, тем не менее, нельзя не признать, что последний подверг издевкам и разрушил нечто такое, что при всех своих несовершенствах было величайшим и ценнейшим наднациональным явлением духовной жизни человечества. Всем, от самых образованных до самых невежественных, были присущи вера в мышление и благоговение пред истиной. Когда рухнули надежды на возможность достижения истины – тогда и возник относительный, случайный, калейдоскопичный мир ценностей, - пишет современный исследователь О. Кривцун. Сегодня все мы в большей степени, чем предполагаем, являемся детьми романтизма. То, что эпоха не переживает, не вырабатывает сама, а заимствует как идеи культуры и искусства других эпох, продолжает существовать в нас как умершие истины». Социальной предпосылкой культурогенеза в ХХ в. стали миграции населения земли, происходишие в немыслимых ранее масштабах. Начался этот процесс гораздо раньше ХХ века, но в ХХ веке приобрел небывалую ранее масштабность, и тенденция эта продолжает усугубляться в веке ХХI. Миграция как таковая, следует заметить, осуществляется в основном в 2 разновидностях: первая – внутрикультурная – происходила в форме урбанизации, при которой происходит разрыв сельского населения со своей природной средой обитания («дрова для топки модерна» по С.Е. Кургиняну). Следствием этого события в культурном плане стал массовый отрыв от традиционного бытового и культурного укладов жизни. У человека, больше не укорененного в почве родной культуры, в новых условиях появилась возможность безболезненной смены ценностных категорий, изменения собственной культурной идентификации. Всего этого не было и не могло быть в традиционном обществе. Вторая форма миграции – это межкультурная миграция, в форме переезда в новую культурную и языковую среду, связанного с еще более кардинальным разрывом со своими корнями, языком и культурой, либо с созданием очередной субкультуры в стране иммиграции. Именно этот вид миграции спровоцировал обострение противостояния западного и мусульманского мировоззрения, породившего контрмодерн (по терминологии С.Е. Кургиняна) Эти процессы неслии в себе неведомый миру культурогенный потенциал, который позитивистская, порожденная материализмом и следовательно, лишенная метафизики, наука ХХ века в свое время не смогла предвидеть. Однако на сегодняшний день уже видны многие итоги этих процессов. Итогом миграций первого типа стал кризис систем истины или аксиологии (он же и есть постмодерн), охвативший большую часть стран, ориентированных на западный тип развития (модерн), а итогом второго типа миграций стало обострившееся в глобальном масштабе противостояние систем (контрмодерн). Почему падение систем истины произошло так одномоментно в странах, изначально столь различных по укладу и культурам? Потому, что культурная интеграция ХХ века проходила под знаком именно западной культуры, и потому все проблемы современности так или иначе соотносятся с характеристиками последней. Западное общество перешло от системы веры в истину к системе разумного познания истины благодаря единству технологического, мировоззренческого и социокультурного векторов развития. Материальные, бытовые преимущества западного уклада жизни тем более весомы для сознания, чем более оно настроено (запрограммировано) на потребление благ, экономию усилий, духовную пассивность. Для потребительского стандарта характерны усредненность, стандартность, духовный минимализм и эгалитарность (анти-элитарность, массовость). Те современные общества, которые еще недавно были полностью традиционными, отличаются от запада тем, что парадигма технологического развития у них долгое время отсутствовала или была минимизирована. Элемент архаики и символизма в их культуре был достаточно высок. В те моменты, когда в них проникала западная культура, традиционные культуры повели себя по разному. Одни агрессивно сопротивлялись (эту модель некоторые современные культурологи и социологи склонны именовать контрмодерном), другие ускоренно модернизировались, то есть подхватили то знамя модерна, которое уже «устал держать» западный мир, третьи – те, что достаточно давно солидаризировались с западом, - включились в его постмодернистскую парадигму. В ХХ веке случилось несколько попыток бросить вызов морально устаревшей парадигме западного модерна, создать собственную модель развития, и, несмотря на то, что эти модели были очень разными по содержанию, все они обладали общими чертами. Это общее – возрастание символического начала в культуре (к слову, свойственного для системы истины, основанной на вере) с одной стороны, и форсирование индустриального развития с другой (ибо для того, чтобы бросить вызов индустриальной мощи запада, необходимо было быть сильными). Характерно то, что во всех этих странах в период изоляционизма искусство развивалось по несколько иным законам, чем в остальном мире, но при возвращении в парадигму западной культуры в него вновь проникали характерные для запада веяния, а веяния эти представляли собой тренд в сторону постмодернизма. Наиболее яркий из подобных примеров - это СССР и его искусство, которое можно в самых общих чертах обозначить формулой "опора на классику+социализм+реализм". При этом переход в перестроечную эпоху к парадигме модерна для советской культуры был трагичен, так как вся мощь разрушительного потенциала постмодернизма "обрушилась" на культуру, которая, в отличие от западной, не имела иммунитета к подобному вирусу, поскольку была значительно более гуманистической, не агрессивной, а поэтому и сильнее отступила под натиском массовой культуры. Сама суть творчества модернизма и постмодернизма (как двух крупнейших направления ХХ века) оказалась принципиально различной. Модернизму, безусловно, был присуща тенденция решительного отрицания предшествующего искусства, однако одновременно он также был своего рода созидательной работой. Постмодернизм же отказался от созидательности как таковой. Исследователи неоднократно противопоставляли созидательную природу модернизма постмодернизму с его игрой мертвыми формальными структурами. Содержание прошлого и настоящего в постмодернизме не просто перемешано, оно подается с максимальной долей уничтожающей саркастической иронии. Постмодернизм обращается с любыми художественными формами и стилями прошлого в подчеркнуто ироническом ключе; но (!) при этом характерно для постмодернизма и обращение ко вневременным сюжетам (то есть к мифологии, которой в системе истин соответствует вера), а также к вечным темам (то есть к онтологической метафизике, к предельным основаниям, бытия) - со стремлением остро высветить их аномальное состояние в современном мире. Цитируя Шекспировского Гамлета, западное искусство как бы констатирует: «Мир раскололся». Как пишет О. Кривцун, - «феномен постмодернизма - это феномен игры, опровержения самого себя, парадоксальности. Такая диспозиция модернизма и постмодернизма дала повод ряду теоретиков говорить, что XX век открылся парадным входом в светлое будущее, а закрывается пародией на все предшествующие эпохи. Модернизм был еще смесью кричащих диссонансов и эйфорической надежды, в то время как постмодернизм - это поэтика благополучно состоявшейся смерти и игра посмертных масок. Все персонажи в постмодернизме легко управляемы. Манипуляция с этими персонажами подобна манипуляции с трупами». Пародия, воплощенная постмодернизмом, проявилась в культе развлекающих игровых моментов, в стремлении мыслить все творческие проявления как игру и в гипертрофии самой игровой сферы в жизни взрослого человека. При этом, как отмечал выдающийся испанский философ искусства Ортега-и-Гассет, жизнь человеческая неумолимо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и при том чужую. Именно потому в ХХ веке исследователей так сильно занимает игровой аспект культуры (Й. Хейзинга и другие). Описанное Ортегой-и-Гассетом и другими исследователями нивелирование индивидуальности вызывает к жизни определенные потребности массового сознания и психологии, отразившиеся на стилистике и характере массового искусства. Путь к обретению собственной индивидуальности всегда связан с усилием по преодолению стереотипов, нежеланием оставаться в рамках достигнутого. Те же препятствия, что мешают человеку осуществиться, будят его силы и способности. Но это лишь в случае осознанного индивидуализма, противопоставления себя косному социуму. Человек, сумевший вынести тяжесть и все противоречия одиночества, получает возможность духовного развития и обретает силу. Напротив, человек, сбегающий от одиночества в мир иллюзий – остается слабым и инфантильным по существу. Человек, принадлежащий массе, отличается всеобъемлющей леностью, и прежде всего в духовном плане, нежеланием напрягаться, проникать в специфику языка искусства, его сложную лексику и разгадывать его неоднозначные смыслы – и потому выбирает то, что проще. В эмоциональной области уходит чувство, ставится под сомнение сама эмоция, скорее вместо этого проступает «характер». Рушится эмоционалистская концепция музыки, которая строилась на протяжении нескольких грандиозных в культурном плане веков. Остракизму подвергаются такие традиционные для чувственной культуры жанры, как любовная лирика, которая объявляется изжившей себя в романтизме. При этом возникает некий парадокс: постмодернизм исключает возможность всерьез воспринимать весь мир классических «высоких» понятий, таких как любовь, благо, жертвенность, красота, стремление к идеальному. Но при этом в нем заложено полное и безнадежное для него осознание того, что это - предельные понятия, последние оставшиеся смыслы, которые, в сущности, нечем заменить. Серьезная музыка, отчасти и поэзия, отказываются от изображения и выражения простых и высоких человеческих чувств, а образовавшийся вакуум заполняют бурно развивающиеся субкультуры: джаз с его культом наслаждения; агрессивно-жизнеутверждающий рок, либо смягченный рок на грани лирического жанра, граничащий с эстрадной песней; сама эстрадная песня, паразитирующая на штампах классической музыки; псевдофольклорные композиции, часто выдающие свой приспособленный к фольклору музыкальный язык (созданный на основе западного) за народное искусство; авторская песня с ее лирической задушевностью и порой излишней нарочитой простотой: российский шансон с его открытой пошлостью и т.д. Сегодня, когда облик постмодернизма уже прояснился полностью, можно говорить о том, что нынешняя эпоха в культурном отношении противопоставляет себя всем предшествующим, и методом этого антагонизма является разрушение в первую очередь института форм в искусстве и языка. При этом под сомнение ставится не просто какая-то определенная форма или определенный художественный язык, но само понятие формы и языка подвергается сомнению и подается в постмодернистском искусстве саркастически, в нем происходит аксиологическая переоценка самих структурных единиц искусства. Очевидно, что результатом процесса разрушения старого должно стать появление нового языка: это будет новый художественный язык, появление которого, повлечет за собой формирование всех последующих структур: формы, жанра, стиля. При этом в момент окончания цикла должна возникать проблема – что делать дальше, когда старый язык и культура как система исчерпали себя? По мнению П.А. Сорокина, подобный переход на стыке уже не эпох, а культурно-исторических типов (или «цивилизаций», по варианту других культур-эволюционистов) может быть обусловлен исключительно внешним стимулом, воздействием катастрофы или «полицейского истории». Существенное отличие нынешней переходной в культурологическом плане эпохи от предыдущих состоит в том, что энтропичность системы достигла максимума, а потенциал развития исчерпал себя: поэтому вместо того, чтобы ругать постмодернизм последними словами, можно взглянуть на него метафорически. Когда организм серьезно болен, он отторгает ту часть себя, в которой сосредоточилась болезнь. Антитела атакуют и уничтожают врага – но это позволяет организму остаться в живых, регенерируя впоследствии утраченное. Поскольку искусство – это тоже система, и у всех систем имеются общие свойства, то этот метод можно экстраполировать и на него. В этом смысле постмодерн – это вирус иммунодефицита в культуре, целью которого является уничтожение стиля, жанра, формы, языка, то есть по существу, самого искусства. Однако даже если это произойдет, это не означает уничтожения самой необходимости культуры, потребности человека в ней, которая, собственно и делает человека человеком. И важнейший вопрос настоящего момента именно в том, созидание какой культуры придет на смену нынешнему разрушительному моменту. Все стили, жанры, формы и языки изменчивы по природе своей, но существование культуры, а вместе с ней – искусства, является аксиомой человеческого бытия. Пока человек существует как человек, существует и культура. Меняются системы истины, на которых она основана, и самый сложный переход (негэнтропичный, то есть преодолевающий энтропию – а потому требующий внешнего стимула) должен, по мнению П.А. Сорокина, осуществиться в ближайшем будущем человечества. В каком-то смысле постмодерн западной культуры стал ее предельно энтропичным состоянием, символически означающем смерть; не случайно в метафизическом смысле знаменем постмодерна стало мертвое искусство. По части художественного языка – это искусство, предельно разложенное на части и составляющие, с выхолощенным или подвергнутым злой иронии процессуально-жизненным содержанием. Подобные явления как раз и являются признаком того состояния культуры, которое соответствует последней, критической, эпохе и последней системе истины в ряду, названном П.А. Сорокиным: «интегрированная скептическая, агностическая или критическая система», причем наша эпоха характеризуется всеми тремя понятиями - скептицизмом, агностицизмом и критицизмом. Развернувшиеся массовые процессы играют роль сильного социального прессинга, необычайно умножающего социальные стереотипы и превращающего духовную и художественную жизнь в постоянное воспроизведение неких устойчивых формул. Происходит растворение индивидуального начала. По мнению же известнейшего ученого ХХ века А. Швейцера, искусство же способно плодоносить только тогда, когда имеется оппозиция художника по отношению к обществу. В случае если общество начинает воздействовать на индивида сильнее, чем индивид на общество, этот процесс неминуемо оборачивается кризисом. При этом лишившееся всех идеологических мифологем современное общество остро нуждается в искусстве, заслуженно рассчитывает на его помощь, видит в художественной сфере живительный источник спонтанной энергии - и хочет получить именно от художника прямые руководства и указания относительно своего настоящего положения и будущего устройства. А между тем, общество устроено так, что именно в наше время оно часто оказывается неспособным к восприятию искусства подлинного художника, ведь гораздо проще для восприятия творение ремесленника, которое радует ухо и разум узнаваемыми интонациями, звуками, ритмами, смыслами – в отличие от новых смыслов, постижения которых всегда требует новаторское творчество художника. Пропаганда заняла место правды, искусство в подавляющем большинстве реализует компенсаторную функцию, помогая человеку забыться, культивируя праздность и развлечение, требующие минимального умственного напряжения. Несостоятельность языка старого искусства, впрочем, легко объяснима: традиционный язык создавался с конструктивными целями, в то время как постмодернизм в культуре действует как «вирус иммунодефицита», созданный специально с целью деконструкции. Идентифицируя себя с культурой с помощью использования обломков традиционных структур и элементов языка, вирус постмодерна лишает ее возможности сопротивляться. Естественные защитные механизмы культуры просто бессильны против этого разрушения, потому что постмодерн еще и называет себя искусством, по сути дела являясь анти искусством, или же игрой в искусство. Возможность сопротивления этому процессу просматривается только в рамках создания нового культурно-цивилизационного проекта, взамен исчерпавшего свой потенциал западного (модернистского) проекта, что подразумевает создание новой системы истины (по П.А. Сорокину - основанной на вере). Разумеется, постмодерн не может создать этой системы, так как он не созидателен в принципе (как было показано выше). Контрмодерн также на это не способен, он в лучшем случае способен воспроизвести и законсервировать элементы ранее существовавших культур. Сам модерн исчерпал свои ресурсы, следовательно, в рамках нынешнего положения вещей продуктивна может быть только новая, принципиально не связанная с модерном система. С.Е. Кургинян называет ее сверхмодерном, связывая ее с ранее существовавшей советской моделью. Пытаясь спрогнозировать основания, на которых этот проект может быть построен, можно предположить, что эта система должна быть технологически ориентирована на глобальный масштаб, универсальна для разных культур, то есть должна нивелировать межкультурные антагонизмы (как это было в СССР, но на новом уровне), и актуальной для современной ситуации. Предпосылкой для последнего (всеобщей актуальности) может явиться, например, факт необходимости экологической и социальной ответственности за судьбы человечества, вызывающий к жизни необходимость отказа от парадигмы потребления, которая как раз и погубила нынешнюю цивилизацию. Пропагандистом такой модели с необходимостью должна выступить культура, основанная на другой системе истины, нежели чувственная. Необходимо осознать, что искусство, как наиболее яркая ипостась культуры, имеет важнейшее значение в формировании института метафизических ценностей (метафизических, то есть представляющих собой крайние, предельные онтологические основания, универсум духовного бытия). В свете нарастания современных эсхатологических предчувствий, когда одни поют осанну грядущему концу света (мамлеев и иже с ним), а другие судорожно цепляются за последнее оставшееся для гедонизма и потребления время, что очень напоминает другие исторические ситуации, когда в ожидании конца люди вели себя аналогичным образом, - очень актуален трезвый взгляд на хаотическую изменчивость современной культуры. И особенно актуальны устремления к созданию новой онтологии (то есть представлений о сущем) и аксиологии (то есть системы ценностей) грядущей культуры, поскольку культура все равно будет существовать всегда, пока существует общество. Грядущая культура, как и любая другая, будет нести в себе черты человека и социума, и процесс ее конструирования должен быть построен на этом факторе. Вплоть до конца ХХ века развитие культуры западного типа происходило в соответствии с парадигмой модерна (по М. Веберу), причем в рамках этой парадигмы произошел такой важный процесс, как глобализация, - процесс этот уже неотменим и основан на технологическом факторе. Очевидно, что все дальнейшие события в истории культуры будут происходить также с учетом этого фактора. Искусство как антропогенный и социогенный феномен обязательно сыграет в этом свою особую немаловажную роль. Безусловно, наша культура, учитывая всю ее самобытность, опыт синтеза множества разнородных национальных составляющих, огромный духовный и социальный потенциал, всегда особый путь развития, благодаря которому то, что смертельно для запада, может быть совсем не страшно для России, - не останется в стороне от будущего культурогенеза. Это одна из наших актуальных целей.